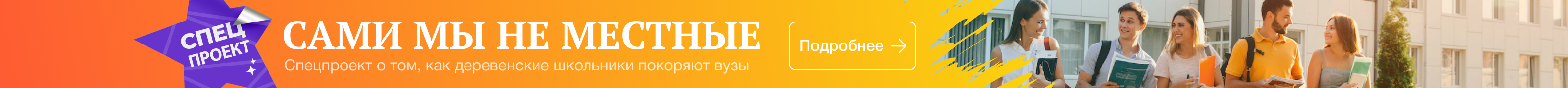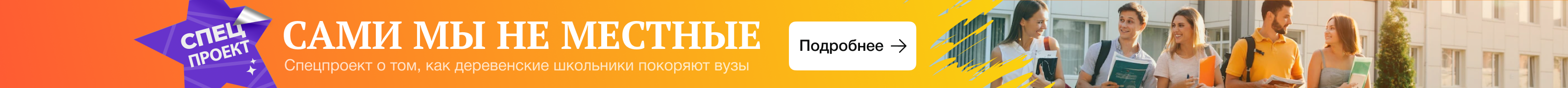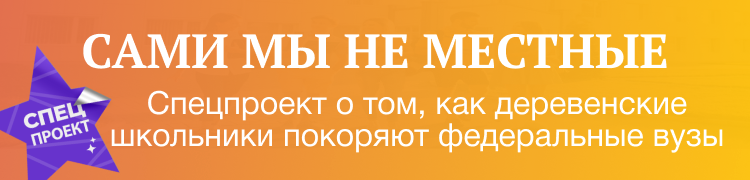Время делает выдох
— Генриетта Наумовна, в 1970–72 годах Вы работали режиссером Красноярского ТЮЗа. Теперь Вы здесь с гастролями. Какие ощущения от встречи с городом?
— Я думала, что это будут нежные ностальгические секунды. И не предполагала, что чувства будут такие острые. Может, потому что я приехала не для каких-либо встреч. За эти годы я уже бывала здесь для этого. А сейчас я в Красноярске, чтобы работать. И работа оказалась тяжелой. Ведь мы привезли 4 спектакля: два — моих, два — Гинкаса. Он не смог приехать, и мне пришлось нести ответственность за подготовку всех постановок.
Я не скажу трогательных слов о встрече с юностью. С одной стороны, меня восхитил город. А с другой, мне очень горько видеть Красноярск. Потому что воспоминания — это часть жизни человека. Тот город, в семидесятые, остался в моей памяти. А теперь я вижу, например, цирк, который только строился, когда мы здесь работали. Мне было очень важно проехать мимо стены шелкового комбината. Это путь от гостиницы «Цирк», где мы жили тогда, до того ДК, где работал ТЮЗ. Мы шли на работу вдоль серой отвратительной длинной грязной стены, сверху которой было намотано несколько рядов колючей проволоки, и чувствовали себя определенным образом. И теперь на том месте я вижу киоски сладковатых цветов. Этой мощной страшной стены, противоречащей природе человека, нет. И это счастье. А для меня потеря.
— И все-таки у Вас светлые воспоминания о тех временах?
— Да. Мы были молодыми. Я помню многое: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 55-й автобус по прозвищу «полстапятка»… Мы все время торчали в своем театре, а в Пушкинский ходили только однажды. Вообще, на этот берег я переезжала всего 7 или 8 раз. Один раз — когда нас вызывали в крайком решать вопрос нашей политической неблагонадежности. Еще раз — в кино на «Айболита-66». А в остальное время мы вкалывали с утра до ночи. Тогда сюда съехались москвичи, ленинградцы, киевляне. И все много работали. Было такое ощущение, что Красноярск — это пуп Земли, центр Вселенной. С нами работали Галя Ефантьева, Гена Курша, Вера Ситникова, Леша Ушаков, Мария Андреевна Сидорова — потрясающая фигура в культуре Красноярска.
— Вопрос политической неблагонадежности часто вставал в то время. А сегодня тема «художник и власть» актуальна для Вас?
— Эта тема актуальна всегда. Власть почему-то тянется к художникам. Вы знаете, в кабинете у Олега Ефремова одно время висела замечательная фотография. На ней два человека: Ефремов и Брежнев. Последний вручает режиссеру какую-то награду. И Брежнев смотрит с таким заискивающим восторгом: он увидел живого Ефремова!
Что касается власти, ее прикосновение к творчеству всегда страшновато, даже когда она тебя поддерживает. Во-первых, потому что ты расслабляешься, а этого делать нельзя. А во-вторых, ты начинаешь задумываться — может, ты пустоват, сладковат, раз она тебя поддерживает. Это сложный вопрос. Бывали периоды в истории нашей страны, когда культура была заодно с властью, а бывали и битвы.
— Московский Театр юного зрителя порой ставит совсем не детские спектакли. Как формируется репертуар?
— Первый свой детский спектакль, кстати, я сделала на красноярской сцене. Это был «Волшебник изумрудного города». Сейчас мы привезли сюда постановку «Счастливый принц». Это детская сказка. Но ее поставил Кама Гинкас и оформил Сергей Бархин — не самые «детские» мастера. В Москве этот спектакль смотрят дети. Мы просто делаем свое дело так, как чувствуем. Про некоторых режиссеров говорят: «у него такая душа, он режиссер детского театра». Я — другой человек. Я не делю театр так категорично. По-моему, детские спектакли — это те, которые идут в субботу и воскресенье утром для маленьких ребятишек. А для всех остальных людей ставится другое. Посмотрите, какую литературу дети проходят в школе. Литературу высокую, сложную, большую — в том виде, какая она есть, мы и представляем зрителю, какого бы возраста он ни был.
— Но ведь каждый воспринимает ее по-своему…
— Есть одно понятие, вынесенное мной из института: искусство имеет конусный характер. Особенно это касается произведений театра, куда приходят люди самого разного уровня подготовки. Зрителями одного зала могут оказаться и человек, который впервые пришел на спектакль, и ученый. И тот, и другой должны вынести из увиденного что-то свое. И это обязанность моя как режиссера, а не их. Первый находится у «вершины конуса» — он должен понять элементарные вещи: кто чей дядя и так далее. Некоторые люди возьмут что-то большее — «конус» начинает расширяться. Ученый будет у его «основания», вынесет больше всех мыслей, ассоциаций, соображений об устройстве мира.
Бывают случаи, когда ты оказываешься духовно беднее своего зрителя. Но чем ты богаче, тем больше расширяется «конус» твоего искусства. Тогда этого богатства хватит на всех. Однажды на моем спектакле «Собачье сердце» в зале сидел академик Сахаров со своим 11-летним внуком. И каждый из них вынес из произведения что-то свое. Это моя гордость. Но, дело в том, что я стараюсь точно также работать для всех.
— В качестве художественного руководителя театра, как вы выстраиваете отношения с приглашенными режиссерами?
— С того момента, как я стала руководителем, я приглашала для постановок много людей. Несколько раз были очень печальные ситуации, потому что артисты «сжирали» режиссера. Они не могли вместе работать и изживали его. Бывало и такое, что я вмешивалась в работу приглашенного мастера. Являлась на репетицию и приходила в ужас, потому что мои хорошие артисты вели себя на сцене фальшиво. И в этом был виноват режиссер. Тогда я брала все в свои руки и ставила спектакль сама. За что меня крайне презирал Бархин. Он говорил: «Ты пригласила человека, значит, ты ему доверяешь. Дай ему делать то, что он считает правильным». Знаю, что это очень плохо и отвратительно — вмешиваться в чужую работу. Но я несу ответственность за то, что идет на сцене. Это одна из неприятных сторон должности.
Сейчас в театре другая система. Я предлагаю молодым режиссерам делать все, что они хотят. Но есть условие. Нужно поставить небольшой отрывок пьесы и показать его руководству, и по этому куску мы решаем — стоит ли дальше работать с этим режиссером.
— Что Вы думаете о современной драматургии? В ней есть материал для Вашего творчества?
— В конце 90-х годов, когда я ставила спектакль «Иванов и другие», и ситуация в литературе не радовала, я рассуждала особым образом. Было такое ощущение, что время расползается сквозь пальцы. И я тогда всем радостно объясняла: «Это конец века. Это общая ситуация в мире, а не только у нас в стране. Время делает выдох. Оно тащило век, и теперь он кончается. А начало века — это всегда вдох. Появится что-то новое — драматургия, другие художники».
Я очень ждала Серебряного века в начале 2000-х годов. Надеялась, что появится что-то свежее, неожиданное, яркое. Я читала новые пьесы. И меня радовало то, что из этого огромного месива у трех-четырех авторов в тексте был живой диалог, что встречается редко, а кого-то хватало на целый акт. И только. Все это создавалось на поверхностном уровне. Многие выдумывали идеи и радовались: ой, что-то новое! А это не просто хорошо забытое старое, это старое — незнаемое. Теперь я почти не читаю современные пьесы. Но мне хочется, чтобы появился такой материал, с которым мне бы было интересно работать.
— А как Вы относитесь к современным веяниям в театре? Вот, например, Театр.doc — неординарное искусство.
— Театр.doc меня очень радует тем, что у него есть гражданская позиция. Но пока нет какого-то художественного поиска. Может быть, это дело будущего. Должно пройти время, чтобы у художника возник взгляд не изнутри, а со стороны. Но они — молодцы, делают свое дело искренне.
Вообще, меня в нашей молодежи пугает то, что у них нет препятствий. А они должны быть. Даже если их нет, художник должен сам изобретать себе препятствия. Как, например, это делал Довлатов. Он сочинял какой-то текст и ставил себе задачу — не употреблять в нем букву «л». Или чтобы слова не начинались на букву «к». Вот это меня потрясает. Творчество обязано что-то преодолевать, а иначе это бессмысленный поток.
Записала: Варвара ЮШМАНОВА.